Никита Явейн: Что нужно знать об «Архитекторе года – 2016» в России

Портрет руководителя бюро «Студия 44», который удостоился звания архитектора года по итогам 5-й Московской биеннале архитектуры.
Звание «Архитектор года» присуждается ежегодно. Номинация учреждена в 2004 году организаторами выставки «Арх Москва», которая в этом году проходит параллельно Московской биеннале архитектуры. Претендентов на звание отбирают исходя из активности архитекторов в течение года. Внимание обращают на количество публикаций в СМИ, участие в выставках и фестивалях. Окончательное решение за профессиональным сообществом. В этот раз ему предстояло выбирать между Тотаном Кузембаевым, Борисом Бернаскони, Максимом Атаянцом, Олегом Шапиро (Wowhaus) и Никитой Явейном.
На решение жюри во многом повлияла победа Никиты Явейна и его бюро на Всемирном фестивале архитектуры (World Architecture Festival) в прошлом году.

Причем «Студия 44» удостоилась наград сразу в двух номинациях: «Постройки. Школы» — за Академию танца Бориса Эйфмана в Петербурге и «Проекты. Мастер-планы» — за концепцию развития исторического центра Калининграда.


Отдавая предпочтение академии танца, международное жюри под председательством английского архитектора Питера Кука отметило «оригинальную структуру внутреннего пространства и удивительную атмосферу в балетных залах».
Никита Явейн: «Конкурировало с нами новомодное датско-американское архитектурное бюро BIG, очень серьезные ребята. Конечно, они на нас очень обиделись, даже шуточки отпускали на тему того, что русским, конечно, надо дать премию, иначе разбомбят».
Еще одна работа бюро — проект реконструкции музейного комплекса Государственного Эрмитажа в восточном крыле Главного Штаба — вошла в шорт-лист финалистов WAF.


В шорт-лист претендентов на премию WAF 2016 снова вошли три проекта «Студии 44»: Музей науки и техники в Томске, Дворец молодежи «Жастар» в Астане и «Пост-Замок» в Калининграде. Защита проектов перед жюри состоится в ноябре.

Музей науки и техники в Томске

Дворец молодежи «Жастар» в Астане

«Пост-Замок» в Калининграде
Никита Явейн родился в 1954 году в Ленинграде в семье известного архитектора-конструктивиста Игоря Явейна, разработавшего более сотни проектов вокзалов по всему Союзу. В 1977-м Никита Явейн окончил архитектурный факультет Ленинградского инженерно-строительного института и с тех пор спроектировал (самостоятельно и в составе творческих коллективов) около сотни построек. Среди них Ладожский вокзал в Петербурге, вокзал «Олимпийский парк» в Сочи, многофункциональный комплекс Gagarin Square в Лондоне.

Ладожский вокзал в Санкт-Петербурге

Вокзал «Олимпийский парк» в Сочи

Многофункциональный комплекс Gagarin Square в Лондоне
«Когда я родился, отец был уже пожилым человеком, и, возможно, на меня у него было больше времени. Так что для меня тема профессии не стояла: с четырех лет знал, что буду архитектором — и я ему благодарен. Вообще у нас с ним никогда не прекращался диалог, даже когда он уже умер. И еще я всегда мечтал о создании собственной школы, которую отец так и не создал: мастерской, которая одновременно твоя броня и среда».
С 1994 по 2004 год Никита Явейн занимал пост председателя Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга. Является профессором кафедры «Архитектура» Санкт-Петербургской академии художеств. Работы Явейна и его соавторов удостоены более 60 международных и национальных премий и наград, среди которых «Хрустальный Дедал» и «Премия Владимира Татлина», главные призы Международного архитектурного фестиваля «Зодчество».
Выдержки из интервью с Никитой Явейном для каталога Венецианской биеннале – 2008 в Венеции
Что для вас главное в архитектуре?
Наличие в ней приема. Это слово я усвоил с детства, из разговоров моего отца, архитектора Игоря Георгиевича Явейна, с его коллегами. Они не стремились дать этому термину научное определение, но в их устах он мог прозвучать и как высшая похвала, и как приговор: «Голосов просто декоратор, у него нет приема». И всё становилось понятно без лишних слов.
Вы из чего выводите свой прием или архитектурную идею?
Из контекста. Я бы даже сказал — из различных контекстов. Но не надо понимать это слово буквально — только как ситуацию, как окружение будущего здания. Контекст для меня — это и история места, и какая-то связанная с ним мифология, и эволюция того или иного типа сооружений, и отражение всего этого в литературе. Отправной точкой может стать и анализ функциональной программы. Хотя для нас функция, как правило, не бывает единственным источником формообразования. Для настоящей глубины этого мало.
Работа над проектом для вас — скорее познание, чем творчество?
Познание, безусловно. Как только начинается игра в творчество, всё выходит хуже, чем у других. Признаюсь, я далеко не всегда удовлетворен эскизной стадией. То есть, идея-то рождается быстро. Но она еще должна одеться в массу одежд, набрать звучаний, смыслов. Даже не деталей, а смыслов. А детали появляются, когда появляются новые смыслы. Мы выращиваем вещь. Смотрим, как она развивается. Параллельно развиваемся сами. И только на третьем-четвертом уровне познания возникает определенная свобода. Свободное рисование начинается только в рабочем проектировании. Поэтому у нас рабочие чертежи всегда лучше, чем стадия «проект». Реализация может быть хуже, но рабочкой мы всегда довольны.
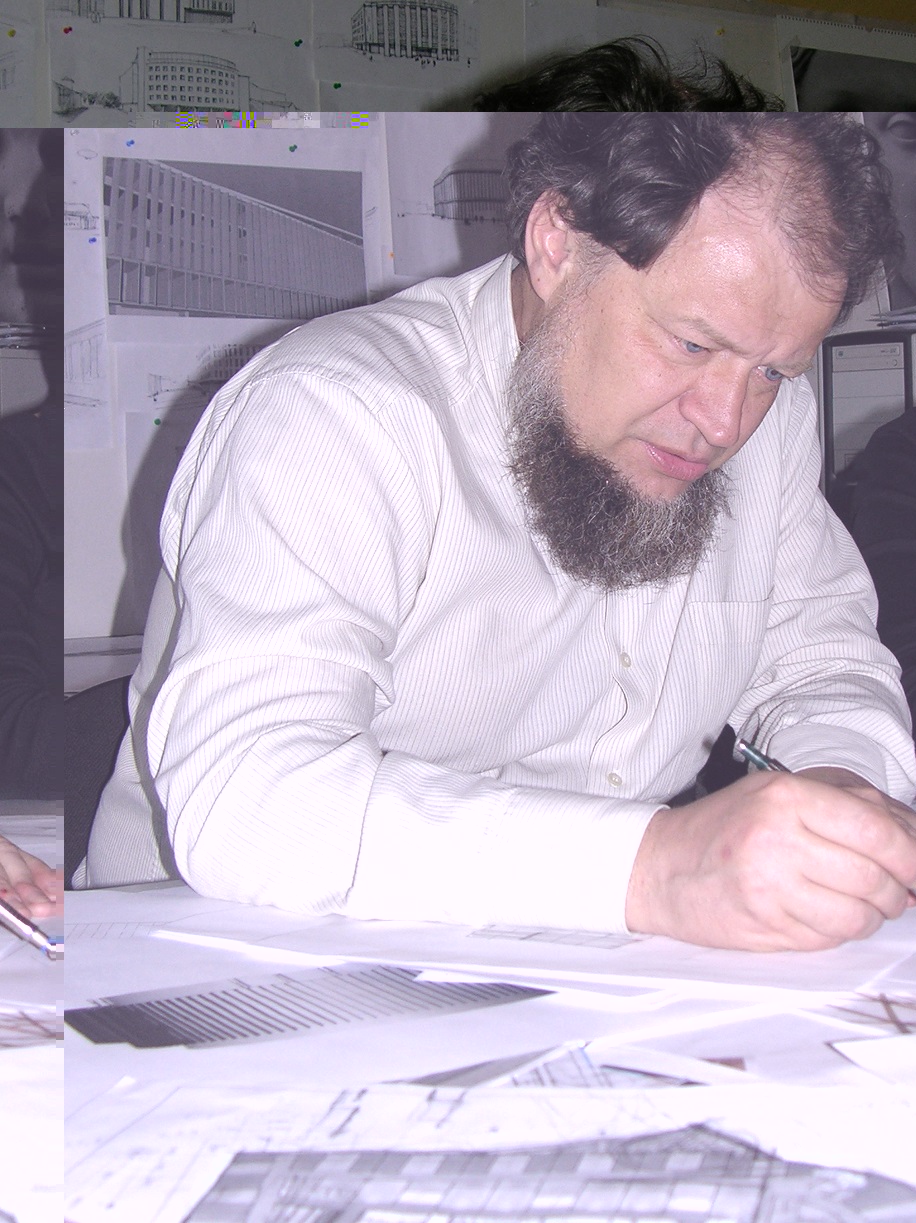
Фото: Архи.ру
Что вы считаете полным успехом?
Когда заказчик жадностью или капризами не загубил архитектуру на стадии строительства. Когда исходные сложности и ограничения удалось обернуть на пользу образному решению. Когда вещь получилась не одномерная, а многослойная, многозначная. Наконец, когда ее понимают и ценят.
И последний вопрос: что вас беспокоит?
Беспокоит то, что архитектура стала жить по законам шоу-бизнеса, «от кутюр» и предметного дизайна. Это когда с подиумов каждый сезон сходит новая «гамма продуктов», а предыдущая автоматически переводится в разряд немодной, прошлого сезона. Когда архитектуру сравнивают с марками автомобилей и одежды. По-моему, это вульгарно. Для меня архитектура, как и культура — категория фундаментальная.
Сегодня в рамках глобализма жестко насаждается даже не стиль, а имидж, который определяет всё — от кривой формы дома до «звездной» манеры поведения автора. И все лепят одни и те же звездные клише. Ну, за исключением нескольких фигур, которые стоят особняком (Ботта, Сиза, Монео, Цумтор, Нувель), и региональных школ (например, венгерской), о существовании которых мало кто знает. У нас, как у всяких новообращенных, дело обстоит и страшней, и комичней. Нынче каждый российский губернатор знает, что в моде небоскреб и что он должен быть винтом. А если не небоскреб и не винтом, то это неприлично и провинциально.
Гуннар Асплунд говорил, что бывают такие дома, которые невозможно переделать, и что это ужасно. По этому признаку многие продукты глобалистской гаммы — скоропортящиеся. Покупать одноразовые предметы по цене шедевра глупо и обидно. Как и, задрав штаны, гоняться за модой. Мудрый Мельников еще в 1967 году предупреждал, что когда много материалов и «всё блестит», нужно иметь большое мужество, чтобы работать пространством, светом, идеями, а не просто блеском и конструктивными фокусами. Чтобы использовать огромные возможности не для пустого эффекта, нужно гораздо большее «углубление, сосредоточение и проникновение».
Рекомендовать друзьям
Товары к статье
 посмотреть коллекцию
посмотреть коллекцию
 посмотреть коллекцию
посмотреть коллекцию
 посмотреть коллекцию
посмотреть коллекцию
 посмотреть коллекцию
посмотреть коллекцию
 посмотреть коллекцию
посмотреть коллекцию
 посмотреть коллекцию
посмотреть коллекцию
 посмотреть коллекцию
посмотреть коллекцию
 посмотреть коллекцию
посмотреть коллекцию
 посмотреть коллекцию
посмотреть коллекцию
 посмотреть коллекцию
посмотреть коллекцию
 посмотреть коллекцию
посмотреть коллекцию